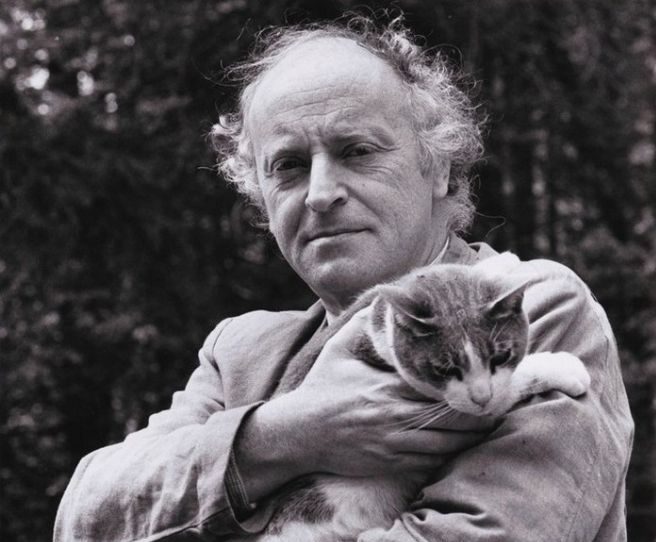
В прошлом те, кого любишь, не умирают!
В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.
В прошлом – как заместитель «в истории», «в памяти» (память как единственная реальность, потому что будущего еще нет, а настоящее еже-мгновенно становится прошлым). В прошлом адресат жив (не «был», а именно «есть» и навсегда там таковым останется – в памяти любящего/любящих).
В прошлом они изменяют – то есть перестают любить/быть, сближаются с другими, бросают, оставляют? И этим изменяют мир вокруг, преобразуют его (изменяют перспективу)?
Или, оставаясь навсегда в прошлом, они продолжают влиять на наше настоящее и соответственно будущее, перспективу (изменяя его и нас)?
или прячутся в перспективу – то есть переходят в пока неведомое будущее: в собственную лирического Я перспективу смерти – прячутся на время, до новой встречи в небытии (переход как игра в прятки, не «всамделяшняя» смерть, не всерьёз)
М.Ц. «Новогоднее»
Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется — от тебя отвлечься.
Каждый помысел, любой, Du Lieber,2
Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, всех ангельский родней!) — как места
Несть, где нет тебя, нет есть: могила.
Всё как не было и всё как было.
…
— До свиданья! До знакомства!
Свидимся — не знаю, но — споемся!
С мне-самой неведомой землею —
С целым морем, Райнер, целой мною!
И. Бродский «Прощальная ода»
Любовь, как чаша…
с вечно живой водой… ждёт ли она: что брызнуть…
долго ли ждать… ответь… Ждать… до смертного часа
В прошлом лацканы уже; единственные полуботинки
дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.


Полуботинки марки «Boogi Woogi» (Буги Вуги)
Маркеры времени – поколение молодежи 50х-60х, стремящейся к свободе самовыражения, движению; финансово не обеспеченное.
Объединения в тексте окаменения и разрушения как процессов становящихся (превращение живой материи/лацканы, буги-вуги, ботинки/ в артефакт, застывающей реальности из памяти в историю).
В прошлом лацканы уже – верхняя пуговица ближе к горлу, выше застегивается одежда (под горло, сдавливает грудь, отнимая свободу вдоха); «одежда пижона» (по мнению обывателей)
единственные полуботинки
дымятся у батареи – сохнут, сжимаясь и коробя кожу (затем, как скорлупа, будут давить на ноги, став жёстче); в затекстовой реальности прошлого – осенняя слякоть на улице, дождь как пелена слез, застилающая путь перед глазами.
Весь текст – о сжатии объектов, защищающих тело человека от влияния пространства. Это объекты как бы сдавливают тело, окаменевая, становясь скорлупой вместо мягкой податливой кожи («саркофагами», монументализация прошлого – о котором лирическое Я не может забыть, через воспоминания, в памяти).
То ли это о моде прошлого (50х гг. в СССР) или о самом прошлом (запреты на все живое и свободное в СССР); то ли о реальности настоящего – окаменение от горя, скорлупа горя как отражение опустевшей скорлупы души и каменности тела после смерти.
Как развалины буги-вуги – интересно, что буги-вуги (имя собственное, название обувной марки и фирмы ее производящей) написано с маленькой буквы, как имя нарицательное, стиль жизни (музыки и танца с элементами акробатики) послевоенного мира (возник стиль в 1910е, популярность приобрел в конце 1940х, но в СССР был запрещен).
Развалины чего? 1) Америки как союзника СССР в прошлом и врага в настоящем? И как родины лирического Я в настоящем, при прошлом в СССР? (именно оттуда пришел этот якобы европейский стиль во время войны с участием войск союзников) 2) Молодости лирических героев, их объединявшей (одно поколение, выросшее в разных условиях, но с идентичным стремлением к подвижности, свободе) 3) Движения вдвоем (буги-вуги – синхронный танец двоих, юноши и девушки) – теперь невозможного, так как из двух остался только 1 человек (1 пара обуви – единственная пара!).
Нам кажется более близким к истине объединение всех смыслов: в попытке передать ощущение партнера, оставшегося без пары в чужом мире (иных людей, стилей и стремлений), с иной формой одежды и иными ритмами. Ощущение последнего выжившего – над развалинами привычного, удобного, домашнего, «своего» мира; в который ворвалась осенняя сырость, сдавив грудь простудой.
В прошлом стынущая скамейка
напоминает обилием перекладин
обезумевший знак равенства.
Знак равенства между сидевшими и более не сидящими на ней, уже ушедшим и тем, кому еще предстоит уйти (оба смертны и этой смертностью равны; кстати и с самой скамейкой – тоже не бесконечной; и миром вокруг – бессмертным лишь настолько, насколько жива память о нем). Знак равенства между уже смертью и пока жизнью – в прошлом (как между листьями, слетающими с деревьев – см. далее тема ветра, перебирающего смесь…).
В VII ч. «Вертумн»:
Лопатками,
как сквозняк,
я чувствую, что и за моей спиною
теперь тоже тянется улица, заросшая
колоннадой,
что в дальнем ее конце тоже синеют волны
Адриатики
Бесконечность перерождений и равенств.
О том же у М.Ц. в «Новогоднее»:
Связь кровная у нас с тем светом:
На Руси бывал — тот свет на этом
Зрел. Налаженная перебежка!
Жизнь и смерть произношу с усмешкой,
Скрытою — своей ее коснешься!
Жизнь и смерть произношу со сноской,
Звездочкою (ночь, которой чаю:
Вместо мозгового полушарья —
Звездное!)
Значит жизнь, не жизнь есть, смерть не смерть есть,
Значит — тмимся, допойму при встрече! —
Нет ни жизни, нет ни смерти, — третье,
Новое.
В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь
латыни с глаголицей в голом парке:
жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,
М.Ц. «Новогоднее»:
Не позабыть бы, друг мой,
Следующего: что если буквы
Русские пошли взамен немецких —
То не потому, что нынче, дескать,
Все сойдет, что мертвый (нищий) все съест –
Не сморгнет!..
– а потому что тот свет,
Наш, — тринадцати, в Новодевичьем
Поняла: не без-, а все-язычен.
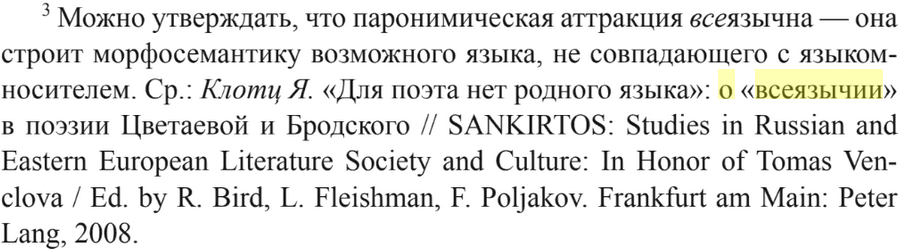
Poetry as a Form of Multilingualism (Поэзия как форма многоязычия) – статья Е.Л. Кудрявцевой и Л.Б. Бубековой
Под раскидистым вязом, шепчущим “че-ше-ще”…
…я, иначе – никто, всечеловек, один из…
сижу, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры всё это списано? Чей покой, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках – вяз и я?
И. Бродский (о шепотах времени в пространстве и через объекты природы)
Смесь латыни с глаголицей – есть только в этом, земном пространстве мер и весов. В инобытии их нет – как нет там иноязычия (см. В этот разслова не подействуют: мой языкдля тебя уже больше не иностранный,чтобы прислушиваться. – «Вертумн», ХП)
В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь … в голом парке – то же самое ощущение осени (последнего преддверия зимы/смерти), что и в опустевшей скамье, и в мокрых ботинках предыдущих строк.
Для памяти (в памяти) парк еще исполнен музыки шороха листвы, для каждого из гуляющих – своей, на своем языке, в своей мелодике речи (диалог голосов, шорох шагов, шорох листвы передается в разных языках по-разному, как и крик петуха или мяуканье кошки; звуки в мире живых национальны). Теперь остался один из двух, парк оголилися, музыка листвы затихла, так как для одного она утратила свое разноголосие. Тишина одиночества вместо диалога. Тишина как интернациональный язык (минута молчания).
Интересно, что шипящие, свойственные в таком однобуквенном представлении только русскому языку, есть и в латинской транслитерации – не переводя, а именно транслитерируя ее в привычные формы нерусскоязычного мира (zh, ch, sh, shch).
И латинские X, Y, Z в русском передаются также только сочетанием букв, несущих свои надбуквенные смыслы (икс, игрек, зет – как линии координат некоего пространства).
Тема перевода как переноса авторских смыслов в новую культуру (новую систему координат). И тема одиночества вместо парности (поэт и переводчик, как некое единство, равное единству танцевальной пары буги-вуги на паркете сцены – вместе и в то же время одни, даже внутри толпы) – решается через игру с буквами и звуками русской и не русской речи, их алфавитами, закрывающими лакуны друг в друге путем траслитерации.
и ты звонко смеешься: «Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры».
Память – это цепочка из звеньев воспоминаний, лингвистика мгновений. И такими «маркерами» по тексту прошлого проходятся и Цветаева и Бродский, отнимая у забвения самые яркие и в то же время самые личные фрагменты диалогов с ушедшими.
Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры –
Переделанная цитата “Ничего не знаю лучше “Аппассионаты”, готов слушать ее каждый день… Изумительная, нечеловеческая музыка” — известные слова Ленина (В.И. Ульянова, первого вождя пролетариата) (Соната для фортепиано № 23 фа минор, op. 57 («Аппассионата») Людвига ван Бетховена).
Интересно, что Вертумн (Джанни Буттафава, итальянец по рождению и языку, что для Бродского важнее) «путает» (не выговаривает, забывает, переигрывает) именно название, происходящее от итальянского слова, не могущего быть ему неизвестным, означающего «возбуждать страсть» (appassionare).
В чем смысл(ы) этой игры со словами (смешной для лирических героев, поэтов)? Может быть – в самой игре, в игре как таковой, в ее возможности (поэзия как расшифровка и шифр абракадабры жизни, реальности)? В том, что абракадабра, кажущаяся бессмыслица вызывает в поэте, творце страсть сродни страсти Микеланджело – к освобождению произведения искусства от излишек камня (здесь – излишек слов и букв). Абракадабра хороша открытой возможностью прочтений, бесконечностью трактовок и постижения. Она как игра – где сам процесс вызывает наслаждение, является волшебством (в СССР дети, играя, произносили «абракадабра» как заклятие, взмахивая «волшебными» сучками).
Или в том, что для масс пролетариата любое произведение искусства – это абракадабра, не понятая и не возбуждающая (или как раз возбуждающая негативно своей непонятностью и чуждостью, тогда это слово в одном ряду с также нарицательным буги-вуги)? А значит, снова об избранности (наподобие заговорщиков, для которых абракадабра – код, ключ к иному лучшему миру) двух понимающих собеседников, из которых теперь остается только один. Осознавая свое абсолютное одиночество в мире, где «Аппассионата» – абракадабра.
Не’куда: язык изучен.
Целый ряд значений и созвучий
Новых.
(смерть как дар нового языка и новых рифм у М.Ц.)
Усваивая уроки любимого им Гайдна (о чем сказано им в интервью), Бродский модифицирует концовку фразы, давно ставшей клише: «Ничего не знаю лучше “Аппассионаты”». Трудно представить более емкую сентенцию, чем «перелицовка» цитаты Бродским. Мне она напоминает о молодом Шостаковиче, в частности, о его Первом фортепианном концерте. Став руководством к действию, ленинское изречение прямо направило советскую культурную политику, что привело к засилью бетховенской музыки в Республике Советов, но лишь нескольких угодных произведений, «близких революционному духу пролетариата». Лидировала «Аппассионата». И в среде музыкантов родилось опасное выражение-перевертыш: «ничего не знаю, кроме “Аппассионаты”», которое относили, разумеется, не только к музыке.
ХV ч. поэмы «Вертумн» (памяти Джанни Буттафавы)
Передавая новые стихи в “Огонек”, Бродский попросил сделать несколько сносок.
Вертумн – языческое божество, в римской мифологии бог перемен (будь то времена года, течение рек, настроения людей или созревание плодов). Был одним из мужей Помоны, олицетворяющей плодородие.
Джанни Буттафава (1939-1990), чьей памяти посвящена поэма, – знаменитый критик театра и кино и переводчик, открывший итальянскому читателю романы Достоевского, произведения многих современных прозаиков и поэтов.
Слова “караваджо” и “бернини” написаны с маленькой буквы намеренно – в связи с тем, что как-то на аукционе работа одного была оценена примерно в 100 миллионов лир, а другого – в 50.
…
– Ну что, как вам наш поэт? – спросил меня американский литератор уже на улице.
– Это все-таки наш поэт, – ответила я. И тут же
устыдилась собственной глупости. Потому что ни он, ни я, конечно, не были правы. И слава Богу!
Н. Ажгихина
НЕ ваш или наш, так как поэт наднационален:
«Стихосложение – это уже перевод, с родного языка – на иной, французский ли или немецкий уже не важно. Ни один язык не является родным. Писать стихи значит писать за [кем-то или чем-то]. Поэтому я не понимаю, когда говорят о французских или русских и т.д. поэтах. Поэт может писать по-французски, но он не может быть французским поэтом. Это смешно. Я не являюсь русским поэтом и поражаюсь всегда, когда меня за такового принимают и в качестве такового рассматривают. Потому становятся поэтом (если вообще можно стать им, если им уже прежде всего иного не являешься!), чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть всем. (Или: человек является поэтом, потому что не является французом.) Национальность – это закрытость и замкнутость. Орфей взрывает национальность, или растягивает ее настолько вдаль и вширь, что все (бывшие и будущие) включены» (пер. с нем. Е.К.).
«Dichten ist schon übertragen, aus der Muttersprache – in eine andere, ob französisch oder deutsch wird wohl gleich sein. Keine Sprache ist Muttersprache. Dichten ist nachdichten. … Orpheus sprengt die Nationalität, oder dehnt sie so weit und breit, dass alle (gewesene und seiende) eingeschlossen sind)». По получении от Рильке его французского лирического сборника «Vergers» – в ответном письме от 6 июля 1926 г. Цитируется по: Цветаева М.И. Письмо к Рильке от 6 июля 1926 года. Электронный ресурс. URL: http://nivat.free.fr/livres/onetwo/03.htm Дата последнего обращения: 20.05.2014
Вертумн – как бы «второстепенное божество», актер вторых ролей, он недооценен современниками – как черновик, помощник, не главный деятель. Он незаметен (в отличие от абсолютных явных субстанций времен года, состояний… – он «всего лишь» переход между ними). Но он и незаменим – без него возникнет или одновременность всего и сразу или совершенное безвременье.
И человек, по сути, должен поклоняться именно Вертумну – так как мы живем в состоянии постоянного перехода из прошлого в будущее, в череде мигов настоящего; из когда-то в никогда, а точнее из никогда в никогда (до рождения и после смерти). Но мы не ценим перехода, Вертумна.
Как не замечаем труда критика, переводчика – «переходников», «адапторов» искусства для нас, простых людей.
В римской мифологии Вертумн был второстепенным божеством, ведавшим сменой времен года. Бродский делает его всемогущим божеством превращений, воспоминаний, метаморфозы как таковой. Эскиз этого образа
находим в стихотворении «Примечание к прогнозам погоды» (1986)
Основная метаморфоза, занимающая поэта в «Вертумне», — это превращения «будущего» в « прошлое». Характерная примета «будущего», как мы знаем уже из «Эклоги 4-й (зимней)», — холод, отождествляемый здесь со смертью и отсутствием любви:
…Пахнет оледененьем.
<…>
В просторечии — будущим. Ибо оледененье
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя.
<…>
…В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
<…>
…Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Этому ледяному будущему противопоставлено прошлое:
В прошлом те, кого любишь, не умирают!
Но будущее неумолимо приближается:
«Чем банальнее климат, — как ты заметил, —
тем будущее быстрей становится настоящим».
Этой метаморфозе оказывается подвластен и сам бог метаморфоз: поэма рисует смерть Вертумна и «метаморфозы,/теперь оставшиеся без присмотра»
https://imwerden.de/pdf/mir_brodskogo_putevoditel_sbornik_statej_2003__ocr.pdf (с. 202-203)
На наш взгляд (прим. Е.К.) данную часть поэмы, как и поэму в целом необходимо рассматривать в контексте не только античной мифологии и мифотворчества Бродского в целом, но и в формате интертекста – перекличек с поэмой «Новогоднее», написанной в феврале 1927 г. М.И. Цветаевой на смерть Р.-М. Рильке (раннюю как по годам, так и как любая смерть вообще, ибо своевременной смерть быть не может). Данную т.з. подкрепляет не просто прекрасное знакомство Бродского с творчеством Цветаевой, ее превознесение как поэта; но и целая статья, посвященная Бродским именно «Новогоднему» и раскрывающая его видение темы смерти более, чем иные изыскания: http://lib.ru/BRODSKIJ/tsvetaeva.txt
И. Бродский: «Всякое стихотворение “На смерть…”, как правило, служит для автора не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом для
рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковом. Оплакивая
потерю (любимого существа, национального героя, друга или властителя дум),
автор зачастую оплакивает — прямым, косвенным, иногда бессознательным
образом — самого себя, ибо трагедийная интонация всегда автобиографична.
Иными словами, в любом стихотворении “На смерть” есть элемент автопортрета.
Элемент этот тем более неизбежен, если оплакиваемым предметом является
собрат по перу, с которым автора связывали чересчур прочные — подлинные или
воображаемые — узы, что-бы автор был в состоянии избежать искушения
отождествить себя с предметом стихотворения. В борьбе с данным искушением
автору мешают ощущение профессиональной цеховой принадлежности, самый
несколько возвышенный характер темы смерти и, наконец, сугубо личное,
частное переживание потери: нечто отнято у тебя — стало быть, ты имеешь к
этому отношение.
и жалость к себе была оборотной стороной фамильярности и следствием возрастающего с уходом всякого поэта и без того свойственного литератору ощущения одиночества. Ежели же речь шла о властителе дум, принадлежащем к другой культуре (например, о смерти Байрона или Гете), то сама “иностранность” такого объекта как бы дополнительно располагала к рассуждениям самого общего, абстрактного порядка, как-то: о роли “певца” в жизни общества, об искусстве вообще, о — говоря словами Ахматовой — “веках и народах”. Эмоциональная необязательность в этих случаях порождала дидактическую расплывчатость, и такого Байрона или Гете бывало затруднительно отличить от Наполеона или от итальянских карбонариев.
Элемент автопортрета в таких случаях естественным образом исчезал, ибо —
как это ни парадоксально, смерть, при всех своих свойствах общего
знаменателя, не сокращала дистанцию между автором и оплакиваемым “певцом”,
но, наоборот, увеличивала оную, как будто невежество пишущего относительно
обстоятельств жизни данного “байрона” распространялось и на сущность этого
“байрона” смерти. Иными словами, смерть, в свою очередь, воспринималась как
нечто иностранное, заграничное — что вполне могло быть оправданно как
косвенное свидетельство ее — смерти — непостижимости. Тем более, что
непостижимость явления или, по крайней мере, ощущение приблизительности
результатов познания и составляет основной пафос периода Романтизма, в
котором берет свое начало (и поэтикой которого окрашена по сей день)
традиция стихотворений “На смерть поэта”.
“Новогоднее” Цветаевой имеет гораздо меньше общего с этой традицией и с
этой поэтикой, чем самый герой этого стихотворения — Райнер Мария Рильке.
Возможно, единственной связующей Цветаеву в этом стихотворении с романтизмом
нитью следует признать то, что для Цветаевой “русского родней немецкий”, т.
е., что немецкий был, наравне с русским, языком ее детства, пришедшегося на
конец прошлого и начало нынешнего века, со всеми вытекающими из немецкой
литературы ХIХ века для ребенка последствиями. Нить эта, конечно же, более
чем просто связующая — на этом мы впоследствии еще остановимся; для начала
же заметим, что именно знанию немецкого языка Цветаева обязана своим
отношением к Рильке, смерть которого, таким образом, оказывается косвенным
ударом — через всю жизнь — по детству.
Уже по одному тому, что детская привязанность к языку (который не
родной, но — родней) завершается для взрослого человека преклонением перед
поэзией (как формой высшей зрелости данного языка), элемент автопортрета в
“Новогоднем” представляется неизбежным. Но “Новогоднее” — больше, чем
автопортрет, так же как и Рильке для Цветаевой — больше, чем поэт. (Так же
как и смерть поэта есть нечто большее, чем человеческая утрата. Это прежде
всего драма собственно языка: неадекватности языкового опыта
экзистенциальному)»
Итак для Бродского в элегии на смерть (Цветавской – Рильке): 1) тема соучастия и сопричастности к смерти как умиранию части себя в преддверии умирания собственного вообще (прощание с частью, причастность к постепенному умиранию и оплакивание себя в умершем) (ср. Лопатками,
как сквозняк,
я чувствую, что и за моей спиною
теперь тоже тянется улица, заросшая
колоннадой,
что в дальнем ее конце тоже синеют волны
Адриатики.); 2) иностранность смерти в иностранности ее объекта (умерший иностранец дистанцирует от смерти) – и снятие этого у М.Ц. за счет единства не только поэтического дара, но языка, то есть сущностного единства; 3) увеличение одиночества поэта во враждебном мире – после ухода собрата по перу, по языку (языкам) (для Бродского еще и его переводчика, перевозчика в мир иноязычия); 4) формат лирического монолога, лингвистической (предельно насыщенной) исповеди – перед поэтом, который выше священника – и обретение в мертвом «абсолютного слушателя» (не о том ли и сам Бродский в своей поэме, говоря о более не иностранности для Вертумна его русского языка?), к читателю – как «иному эго» автора (он принимает абсолютный характер, ибо автор адресует свои слова в небытие, в Хронос) 5) Бродский говорит, что стихотворение М.Ц. начинается с того, чем другие заканчивают (Цветаева – поэт крайностей только в том смысле, что “крайность” для нее не столько конец познанного мира, сколько начало непознаваемого), потому что «Искусство и вообще всегда возникает в результате действия, направленного вовне, в сторону, на достижение (постижение) объекта, непосредственно отношения к искусству не имеющего. Оно – средство передвижения, ландшафт, мелькающий в окне – а не передвижения этого цель». В т.ч. и средство познания смерти и пост-смертного континуума беспространственности и безвременья.
И Рильке и Джанни Буттафава умерли от разрыва сердца.
У Бродского – Адриатика в античности, у Цветаевой – Средиземное и античность (из пугающего своим обилием не понимающих лирическое Я людей, после смерти единственного понимавшего; лирические Я Цв. и Бр. бегут в «абсолютное», поскольку досконально описанное и представленное во всех видах иск-ва прошлое, в античность; и … пересоздают его, помещая туда и себя, и умершего).
Оба текста – на игре слов и смыслов, понятных пишущему и не смогущему прочитать респонденту.